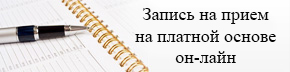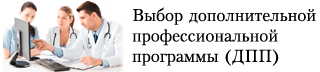Посвящается Дню памяти полного снятия блокады Ленинграда
Блокадные письма
Блокадные письма — часть памяти о тяжелых и трагических днях блокады Ленинграда. Эти события запечатлены в них сквозь призму глубоко личных и очень непосредственных переживаний, которыми ленинградцы делились со своими близкими. Сохраненные крупицы личной памяти позволяют современному человеку осмыслить и примерить к себе тот опыт, который выпал на долю жителей блокадного Ленинграда.
К годовщине полного снятия блокады Ленинграда музей представляет блокадные письма из семейного архива выпускницы ЛСГМИ Нины Александровны Шныровой (1930–1991). Среди них уникальное свидетельство о радостном дне полного снятия блокады города – итог героического подвига защитников Ленинграда и всех его жителей.


Откуда: Ленинград, Большая Охта, Дребезгова ул.
От кого: Марии Федоровны Шныровой [мать Н.А.Шныровой]
Куда: Ставропольский край (Карачаевская автономная область), Зеленчукский район, станица Кардоникская, колхоз «За социалистическое животноводство»
Кому: Нине Александровне Шныровой
Привет Ниночке и Валечке от мамы и коки [т.е. крестной матери].
С каждым днем все радостные вести объявляет радио и газеты, о как жаль, что вас нет здесь. Сегодня большой праздник для ленинградцев. Наша Красная армия нас освободила после долгих переживаний и мучений. Жаль тех, кто не дожил до этих светлых дней, которые все становятся радостнее и веселее. Много погубили немцы и искалечили жителей Ленинграда и сам красавец-город. Ежедневные дневные и ночные обстрелы губили город, но жители его не покладали рук, даже не падали духом, работали все для страны, для фронта. Сегодня блокада Ленинграда снята. Ленинград салютует из 300 орудий в 20 часов вечера.
Я уже писала, что очищена наша северная дорога полностью. Московская до Любани. Город Пушкин и Павловск, Ораниенбаум и Гатчино. Теперь войска продвигаются к Сиверской, осталась одна остановка. Жаль, что у вас нет там радио и газет. Теперь мои мучения кончатся, и я буду спокойно ездить домой. Хотя и пешком иногда ходить еще придется, но это не страшно, иди спокойно и все. Как мы остались с кокой живы, да еще и обе. Сколько снарядов и осколков лежало около нас везде и всюду. Теперь жители Ленинграда будут возвращаться по мере возможности и по разрешению правительства. С оккупированных местностей будет видимо разрешение немного позднее, да еще и дороги пока восстановятся, и у Вали учебный год не пропадет, и там видно будет. Нина, уже ваш институт возобновляет работу. Прием студентов передает радио, телефон – 50-25. Я позднее узнаю, вот немного дела наши поправятся, а насчет Валина техникума ничего еще не слышно. Он тогда в июне выехал в Тбилиси. Потом все постепенно будем узнавать, через какие организации будет ваше возвращение.
Пока всего хорошего, целую.
Мама
27 января 1944 г.

Ниночка — Нина Александровна Шнырова (1930–1991) была в эвакуации по 1944 г., выпускница первого послевоенного набора студентов ЛСГМИ (1947–1953).
Медаль «За оборону Ленинграда» Н.А. Шныровой
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» М.Ф. Шныровой

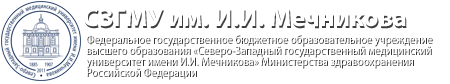
 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих